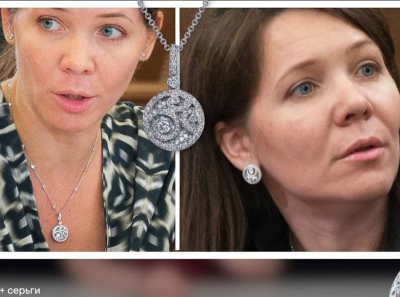Имя его по-прежнему известно только специалистам по искусству 1930-х. Алексей Александрович Успенский (1892–1941) – художник музеефицированный, хотя и недавно, в 1999 -м. Тогда Вологодская областная картинная галерея приняла в дар около 800 произведений Успенского, хранившихся с 1941-го у дочерей его друга, Николая Андреевича Тырсы.
8 ноября 1941 года Алексей Успенский погиб во время артобстрела в своей квартире на улице Коломенской в Ленинграде, где он жил. «Разбитый рояль, пальто, накинутое на спинку кресла, и разбросанные рисунки… Успенского не нашли, думают, что он попал в воронку от бомбы» - записал в дневнике художник Тырса. Позднее тело Успенского было найдено, оно застыло на морозе в форме бега и художника пришлось хоронить почти в квадратном ящике вместо обычного гроба. Несколько художников помогали при раскопках разрушенного дома и затем В. Власов и Н. Тырса на саночках перевезли работы на улицу Глинки, где жил Тырса. Скорее всего, что кроме круга семьи и друзей, да еще искусствоведа Бориса Давыдовича Суриса, эти вещи никто не видел.
«Многие крупные листы были одеты в бумажные паспарту, слегка помятые и грязноватые. В бумаге послышалось какое-то шуршание. Анна Николаевна Тырса пояснила, что это остатки штукатурки от разбомбленного дома Успенского осенью 1941 года. А паспарту остались от готовившейся, но так и не состоявшейся выставки работ художника в Русском музее как раз перед войной» - вспоминал другой художник этого круга Николай Лапшин.
Время продуктивной творческой жизни Успенского составило немного более двадцати лет, но сохранившееся – лишь малая часть его наследия, и преимущественно графика, от живописи маслом уцелело всего около дюжины работ.
Алексей Успенский, вместе со своими товарищами и современниками – Н. Тырсой, В. Гринбергом, А. Ведерниковым, А. Русаковым, Н. Лапшиным, В. Лебедевым и другими, относились к так называемым ленинградским французам, не прятавшим своих стилистических предпочтений. Это в их работах проявился тот пассионарный всплеск, отмеченный Н. Пуниным как новая волна импрессионизма, и находившийся в противофазе к искусству ангажированному, официально утвержденному.
В 1935 году на Первой выставке ленинградских художников в Русском Музее, в одном зале экспонировались работы. Владимира Лебедева (вектор – Ренуар и Мане), Николая Тырсы (Ренуар и Матисс), Николая Лапшина и Владимира Гринберга (Марке), Алексея Успенского (Дюфи).
Москва переболела Сезанном как «французской болезнью» на два десятилетия раньше, но имела ее длительные «бубнововалетские» последствия. Неторопливый Питер вдохновлялся аристократической европейской легкостью, не увлекшись материальностью сезанновской почвы, насытившей москвичей.
Подобный, «вольнодумный» гедонизм как бы подвешивал ленинградских французов над ответственной эпохой пятилеток, промфинпланов и изобригад.
Легко почувствовать, как возникали линии напряжения на этом поле: эстетическое – социальное, камерное – эпическое, чувственное – ментальное, средовое – предметное. Напряжение не оставалось в зоне пикировок о сюжете и стиле, его нагнетание ощущалось художниками ежедневно, в распределении фондовских заказов, от нереализованных проектов, при «вышибающих из седла» ударах критики. С официальной точки зрения, они были безыдейными «пораженцами», подобными преступникам, наказанным так называемыми поражениями в правах.
С 1925-го года Успенский много рисует для московских и ленинградских журналов – «Бич», «Бузотер», «Смехач», «Бегемот», «Пушка», «Крокодил».
К концу 20-х бдительность цензоров повышается, и в 1929г. ему запрещается давать рисунки в сатирические журналы. Причина – нарисованный портрет некоего советского руководителя высшего ранга, повешенный автором на стене нарисованного кабинета. Портрет оказался шаржем, и Успенский еще довольно легко отделался, ведь в 30-х ленинградская школа сатирического рисунка (Г. Эфрос, Л. Бродаты, Н. Муратов) была погублена, а Б. Малаховский физически уничтожен. Тогда уже были закрыты почти все перечисленные журналы, власть знала – не только сумбур опасен вместо музыки, каламбур – еще опаснее.
С 1928-го, когда редактором детского журнала «Еж» стал Николай Олейников, Успенский был привлечен к постоянной работе в журнале, который оживлял своей изобретательностью. Он делал юмористические рисунки, оформлял обложки и придумывал фотофокусы (Успенский азартно фотографировал и был увлечен технологическими процессами), в 30-е годы сотрудничал с детскими журналами: московским «Сверчком» и ленинградским «Чижом», иллюстрировал книги в «Молодой гвардии» и «Детиздате».
Успенский объяснял схожесть своей живописи с Дюфи, тем, что у него «любовь к тонким, экономным штрихам кисти в рисунке» и считал это следствием опыта в росписи фаянса .
В 1917г. он получил специальность «художник декоративно-стенной живописи», окончив в Санкт-Петербурге Центральное училище технического рисования барона А. Л. Штиглица. Работа в области декоративно-прикладных искусств оказывалась неизбежной уловкой для художников, подобных Алексею Успенскому. Возможности творчества-ремесла, лишенного публицистических и идеологических обязательств, были сравнимы с внутренней эмиграцией, куда и отправились многие «штигличане».
Во второй половине 1930-х под руководством Успенского на Ленинградском фарфоровом заводе им.Ломоносова была организована мастерская по росписи фарфора. Были сделаны попытки изменить стиль: уйти от подарочных вещей и разработать эскизы для массового производства, при помощи новых технических способов нанесения рисунка, найденных Успенским и Лапшиным. Но вскоре после выпуска первых изделий (в частности, сервиза по рисункам Е. Чарушина «Звери») мастерская прекратила работу.
В 1940–41гг. Успенский работал в экспериментальном цехе художественного стекла, организованном при Ленинградской зеркальной фабрике. Несмотря на то, что атмосфера цехов была опасна для слабого здоровья художника, он горячо и со вкусом взялся за это новое дело. В союзе со специалистами-технологами и под руководством скульптора Веры Мухиной, Успенский заложил базу ленинградской школы художников по стеклу, послевоенную славу которой создаст Борис Смирнов.
Алексей Успенский принадлежит к тем художникам, которые освещают своими творчеством малоисследованную среду – советское довоенное искусство второго плана. Причем иерархия плана как второго создана далеко не вегетарианским временем 1930-х, когда в буквальных муках рожали официальный, «реалистический по форме и социалистический по содержанию», стиль эпохи. В качестве фигур у «задника сцены» оказались художники, жившие искусством как интимной жизнью; сумевшие писать и рисовать букеты, женщин и пейзажи как личный пластический опыт; наивно и смело утверждавшие: актуально то, что красиво.
Оказавшиеся противопоставлены стилю большинства, они создали и сохранили материал, к которому так уместно применить невостребованный у большинства арт-критиков инструмент эстетического анализа.
Алексей Успенский прожил свою жизнь «по мечте»: искренне, романтизированно, увлеченно, непрактично, в общем, – художником в традиционном представлении об этом типаже.
Художник Николай Лапшин вспоминал встречи в квартире Тырсы: «Иногда уютно сидели вокруг полукруглого стола в большой комнате Николая Андреевича в его квартире на улице Глинки, в доме г. Бенуа, и спорили, просматривая репродукции, попивали белое вино и закусывали яблоками и печеньем. Алексей Александрович весело смеялся, иногда немного искусственно, как-то басом, и часто говорил «очаровательно». И это слово очень подходит к характеристике Алексея Александровича – он был, действительно, и очаровательным человеком, и очаровательным художником» .
(Для справки: Алексей Успенский не состоит со мной даже в дальнем родстве, но мне лестно иметь такого однофамильца - Антон Успенский).